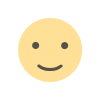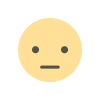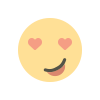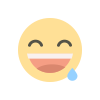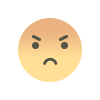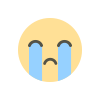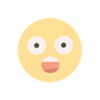«Бог — отцовская фигура»: Ольга Хейфиц — о схожести Андрея Тарковского и Ингмара Бергмана

Колумнист BURO., писатель, филолог и психоаналитик Ольга Хейфиц сравнивает детство, отношение к религии и психологические портреты двух великих режиссеров, чтобы разобраться, как все это повлияло на их творчество.

Ольга Хейфиц
Писатель, филолог, психоаналитик, автор научно-фантастического романа «Камера смысла» и просветительского цикла лекций «Архитектура личности»
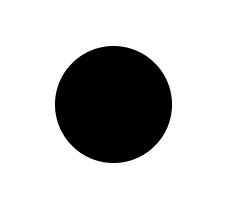
Два великих автора, говорящих на одном языке. Так и тянет сравнить их детство, личную жизнь, отношение к Богу, все то, что может дать нам подсказку, где искать их внутренние связи, а может, и не искать.
Фиксация на детстве и отношениях с родителями — общая тема режиссеров. Отец Тарковского ушел из семьи к другой женщине, когда Андрею было три года. По сути, он вырос в двух мирах — злость, чувство отверженности и желание понравиться отцу. Но были и стыд за мать, которая рано состарилась, махнула на себя рукой, посвятив жизнь детям, и чувство вины перед ней.
Если отец Тарковского был недостижимой и отвергающей фигурой, то отец Ингмара Бергмана, Эрик Бергман, был садистическим и преследующим. Высокопоставленный священник, получивший титул королевского капеллана, делал все, чтобы соблюсти видимость образцовой, безупречной семьи. Он уважал телесные наказания, а еще любил устроить детям исповеди в их грехах, где сам был и исповедником, и карателем. Мать Бергмана была депрессивной и избегающей. Потому основные чувства Бергмана по отношению к родителям — агрессия к отцу, обида и злость на равнодушие матери, при этом попытка добиться ее внимания.
И Тарковский, и Бергман в большинстве своих фильмов пытаются примириться с родителями. Показательно, что Тарковский всегда называл в числе любимых фильмов «Земляничную поляну» (1957) Бергмана, — картина, по сути, является попыткой репарации семьи.

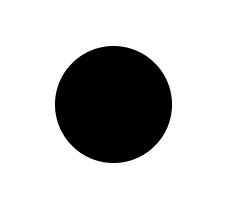
Каждый фильм двух великих художников пронизан религиозными поисками. Этого не может не быть, когда человек пытается разобраться с отцом. Отношения с Богом с точки зрения психоанализа — следствие бессознательных представлений человека о родителях. Бог — отцовская фигура.
Это очень заметно в истории Бергмана, который проклинал отчий дом и, возвращаясь в него, признавался: «Всю сознательную жизнь я боролся со своим отношением к Богу — мучительным и безрадостным. Вера и неверие, вина, наказание, милосердие и осуждение были неизбежной реальностью. Мои молитвы смердели страхом, мольбой, проклятием, благодарностью, надеждой, отвращением и отчаянием: Бог говорил, Бог молчал. Не отвращай от меня лика Твоего». Бергман тем самым бунтует против Бога и отца.
У Тарковского к Богу не было таких претензий, он скорее стремился соединиться с ним, как с утраченным отцом, однако была претензия к человечеству, которое боготворит науку и рационализирует жизнь, упуская из виду духовное, нравственное развитие.
Тарковский, советский человек, тем не менее становится одним их самых значимых богоискателей в мире кино. В его фильмах всегда ощущается присутствие некой внешней силы, некоей воли, необязательно христианской. Иногда, как в «Солярисе» (1972) или «Сталкере» (1979), она способна напрямую материализовывать, воплощать самые заветные желания и даже чувство вины, но никто не может предугадать, в какой форме желание сбудется. Это очень похоже на работу бессознательного. Словенский культуролог, философ-фрейдист Славой Жижек в своих исследованиях называет это нечто «машина-Оно».

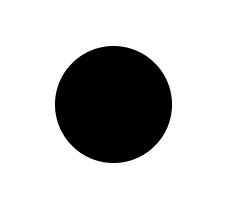
И Бергман, и Тарковский знамениты своими любовными победами. У них было очень-очень много романов, супружеская верность — не их конек. Каждый из них уверен: чтобы фильм получился, режиссер должен быть влюблен в актрису. Так что почти все главные актрисы Бергмана и Тарковского какое-то время были их любовницами.
Бергман вообще очень женский режиссер. Женщины в его фильмах — в центре сюжета и часто главные героини, как в «Персоне» (1966) или «Осенней сонате» (1978). Мир Таковского мужской, женщины в его историях скорее объект, наблюдаемый мужчиной. Характерно, что Андрей Тарковский высшей добродетелью в женщине считал именно жертвенность.
Мать Бергмана ускользающая, депрессивная — ее нужно было попытаться понять, привлечь ее внимание, Бергман занимается этим всю творческую жизнь. В документальном фильме «Ингмар Бергман: Волшебный фонарь» (1988) режиссер вспоминает, как обожал мать в детстве. Его потребность в любви и признании была ненасытна, но нежности сына вызывали у нее досаду. Она отвечала холодной иронией, а сын плакал от злости и разочарования.

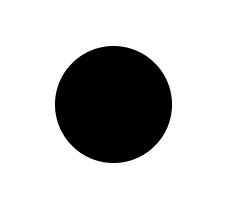
Мать Тарковского жертвенная, контролирующая, вызывающая чувство вины и долга. Знавшие ее лично говорили, что она сложный человек, сознательно отказалась от женственности, от личной жизни, стала замкнутой и тяжелой. Ее фанатичная любовь к детям, которым она посвятила жизнь, говорит о личной безопасности, ведь дети не муж, не бросят. Но опасность в том, что когда человек многим жертвует, он может многое ожидать взамен, и насаждает в окружающих чувство вины.
Людмила Смирнова, подруга детства Тарковского, рассказывает, что Андрей стеснялся матери: «Когда мы шли по улице и навстречу попадалась Мария Ивановна, он практически не реагировал, проходил мимо. Мария Ивановна плохо выглядела. В сорок с лишним лет, одетая очень бедно, она походила на старуху. Настроение у нее всегда было плохое, тяжелое; мне кажется, что и детям с нею было нелегко… Думаю, что Андрею дома было неуютно».
В тексте «Запечатленное время» Тарковский писал: «Цель искусства заключается в том, чтобы подготовить человека к смерти, вспахать и взрыхлить его душу, сделать ее способной обратиться к добру». Искусство готовит нас к вечности, язык искусства — это язык абстрактных форм, бессознательного, нематериального мира, куда, возможно, стремится душа каждого из нас. Мне кажется, фильмы Тарковского и Бергмана стирают грань между мирами, позволяя зрителю почувствовать дыхание вечности. Их миссия проводников, сталкеров, перевозчиков душ, почти Харонов выполнена.
Источник материала и фото: "BURO."