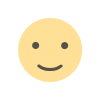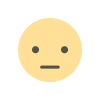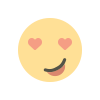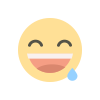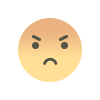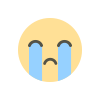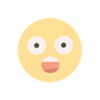Миус-фронт: пылающее небо Донбасса

Однажды по линии общества "Знание" читал лекцию о сражении на Миус-фронте школьникам одного из городов ДНР. Начал её с того, что показал фотографию сверхзвукового бомбардировщика Ту-160 и попросил назвать воинское соединение, на вооружении которого состоит флагман российской стратегической авиации.
Мои слушатели даже не знали, что ответить, хотя в соседнем городе в
далёком 1943 году этому соединению было вручено гвардейское знамя. После
столь каверзного вопроса присутствовавшие в аудитории учителя попросили
меня рассказывать чуть помедленнее: услышанное на лекции им предстояло
использовать на уроках...
Миус-фронт остался в тени более громких битв того года, хотя
развернувшееся над ним воздушное сражение ещё ждёт своего исследователя.
Именно в небе над Донецким кряжем летом 1943 года впервые в истории
отечественной авиации была реализована тактика "свободной охоты": это
было такое же революционное новшество, как и совершённый в те же дни в
воздушных боях над Кубанью переход к вертикальному построению боевого
порядка. На Миус-фронте воевали такие прославленные герои, как Александр
Покрышкин, Лидия Литвяк, Амет-Хан Султан, Екатерина Буданова, Владимир
Лавринёнков, Муса Гареев и многие другие. А 22-я Донбасская гвардейская
Краснознамённая тяжелобомбардировочная авиадивизия, та самая, на
вооружении которой состоит Ту-160, уже в наши дни сражается против
поднявшего голову нацизма...
Тема Миус-фронта поистине безгранична и требует отдельной монографии,
поэтому в нашем небольшом очерке постараемся понять происходившее тогда
через судьбы трёх героев.
Способность видеть воздух
Февраль 2008 года. Нашу группу журналистов привозят в Дом офицеров
авиабазы "Энгельс", где расквартирована Донбасская
тяжелобомбардировочная. На сцене экипаж самолёта репетирует номер к
предстоящему праздничному концерту: возникло ощущение, что та самая
поющая эскадрилья капитана Титаренко шагнула к тебе с киноэкрана...
Эти стены помнят легендарную Марину Раскову: здесь она формировала
женские авиаэскадрильи, здесь же в редкие минуты досуга играла на рояле.
Отметим, что небо переманило из Московской консерватории не только
Раскову, но и лётчика-штурмовика Василия Емельяненко: оба были в числе
лучших её студентов, обоим предсказывали большое будущее в искусстве. Но
оба предпочли авиацию и стали впоследствии Героями Советского Союза. Ну
а логотип, красовавшийся на борту самолёта, которым управлял
Емельяненко, увековечил на экране Леонид Быков...
В этих стенах не раз бывала воспитанница Марины Расковой Лидия Литвяк —
самая результативная лётчица в истории истребительной авиации: на её
счёту девятнадцать воздушных побед.
Раз мы уже заговорили об искусстве, то Лидия Литвяк с её внешними
данными и с прирождённым артистизмом вполне могла бы стать кинозвездой.
Да и художественным вкусом обладала отменным: любила мастерить из
списанных парашютов себе и товарищам лёгкие и весьма полезные в полёте
шарфы, перешивать обмундирование и головные уборы. В её самолёте рядом с
приборной доской обязательно находился букет цветов, живых или
искусственных — по сезону.
Про Лидию Литвяк товарищи не раз говорили, что у неё есть редкий, но
очень ценный для пилота дар — умение видеть воздух. Читателю такая
формулировка покажется странной, но у занимающихся спортивной греблей
есть близкий по значению термин — "чтение воды": поведение водной глади
может подсказать опытному гребцу, какие приёмы нужно применять во время
регаты для достижения результата. Увидеть происходящие в воздухе
процессы нельзя, но есть масса косвенных признаков, говорящих об их
наличии. Самое простое: над более нагретым участком поверхности жди
восходящий поток, над менее нагретым — нисходящий, также приготовься к
турбулентности на границе суши и водоёма или леса с открытой местностью.
В эпоху тихоходной поршневой авиации такое умение являлось не только
вопросом безопасности, но и позволяло эффективно использовать
атмосферные процессы для выполнения сложных пилотажных фигур.
В памяти знавших Лидию Литвяк она осталась обладательницей весьма
сложного и своенравного характера, но не зря же сказано, что нужно
бояться тихоню, а не норовистого: именно такие непростые в общении люди
чаще всего оказываются и самыми верными друзьями, и теми, кто проявит
бесстрашие в бою. Кстати, командование прекрасно понимало, что проблемы с
дисциплиной у лётчицы вызваны её инициативностью и энергичностью.
Например, ещё будучи курсантом, Лидия Литвяк самовольно подняла в воздух
самолёт, чтобы доставить запчасти на место аварии: полёты в тот день были
запрещены по метеоусловиям. Когда об этом стало известно начальству, её
командир Марина Раскова заявила, что гордится поступком подчинённой.
Инициативность Лидии Литвяк заметили командиры, поэтому её рекомендовали
к включению в группу, занимающуюся "свободной охотой". Отметим, что
именно на Миус-фронте этот тактический приём утвердился в практике
отечественной авиации. Его смысл заключался в том, что патрулирование
воздушного пространства поручалось паре истребителей. Обнаружив
противника, патрулирующие совершали молниеносную атаку, после чего быстро
уходили на аэродром. Даже для превосходящего по численности неприятеля
навязанный скоротечный бой означал срыв выполнения поставленной задачи:
терялся фактор внезапности, зенитная артиллерия успевала подготовиться к
отражению атаки, а на помощь "свободным охотникам" поднималось
подкрепление.
Хотя имелись и сложности. Во-первых, требовались опытные и инициативные
пилоты с воздушными победами на счету, способные принимать решения и
брать на себя ответственность. Во-вторых, резко возрастало время
нахождения самолёта в воздухе, что приводило к увеличению объёма
регламентных работ с техникой. Поэтому переход к "свободной охоте" стал
возможен лишь после Сталинградской битвы, когда отечественный авиапром
оправился от потерь 1941–1942 годов.
Фронтовая судьба Лидии Литвяк была в чём-то подобна яркой падающей
звезде на небосклоне. Однажды сбитый ею немецкий ас после приземления
оказался в плену, и когда во время допроса узнал, кому проиграл бой, то
без раздумий подарил свои часы победительнице. А ещё Лидия Литвяк и её
возлюбленный Алексей Соломатин стали для Леонида Быкова главными
прототипами Маши и Ромео — наверное, одного из самых ярких и
пронзительных символов фронтовой любви в отечественном кино.
1 августа 1943 года вошедший в пике самолёт Лидии Литвяк навеки скрылся
в сплошной облачности над Миусом. В тот день это был её четвёртый по
счёту боевой вылет...
Долгое время она считалась пропавшей без вести, и лишь в 1969 году у
села Кожевня Шахтёрского района (ныне в ДНР) были обнаружены и опознаны
её останки. После этого ещё два десятилетия потребовалось на то, чтобы в
пункт 22 приказа Главного управления кадров РККА от 16 сентября 1943
года внести изменения с новой формулировкой: "погибла при выполнении
боевого задания". Лишь в мае 1990 года Лидии Литвяк было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Вера в возвращение
Мы вспоминали тему кино, так вот, изучая биографии героев Миус-фронта,
невольно ловишь себя на мысли, что в жизни очень многих из них были
моменты с такими драматическими перипетиями, что постановщику батальной
ленты в принципе ничего не надо придумывать: просто бери реальные факты
и переноси их на экран. Итак...
В опасных профессиях суеверия не имеют ничего общего с мистикой: в
условиях постоянного риска человек будет стараться окружить себя
атмосферой психологического комфорта. Он постарается минимизировать всё,
что в самый ответственный момент напомнит о былых неудачах, зато возьмёт
с собой "счастливую" вещь: приятные воспоминания способны пробуждать
второе дыхание и подпитывать стремление к победе.
После перебазирования эскадрильи на аэродром возле села Павловка
Красносулинского района Ростовской области у служившего в ней старшего
лейтенанта Владимира Лавринёнкова всё пошло не по плану. Утро началось с
того, что начальство предложило ему приберечь до вечера новую
гимнастёрку, к которой были прикреплены награды: разве можно заместителю
командира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного авиаполка и Герою
Советского Союза, с чьим мнением считаются авиаконструкторы, приходить
на ожидавшуюся по поводу новоселья культурную программу в неподобающем
виде?
Далее случилась ссора с командиром полка: Амет-Хан Султан, будущий
прославленный лётчик-испытатель, отказался принимать самолёт, ремонт
которого посчитал неудовлетворительным. Лавринёнкову пришлось вступиться
за ведомого, общение быстро перешло на повышенные тона. Желавший
доказать свою правоту комполка попытался взлететь на неисправной машине,
но, не успев оторваться от земли, потерпел аварию и чудом отделался
лёгкими ссадинами.
Чуть позже в кармане Лавринёнкова разбилось зеркальце. И в этот момент
прозвучал приказ готовиться к вылету: над Миусом появился вражеский
разведчик Fw 189. В бой отправили четырёх самых результативных пилотов:
тихоходная "рама" представляла собой очень сложную цель — необычайно
живучий самолёт с хорошими возможностями для круговой обороны и
потрясающей манёвренностью, способный загнать в "штопор" скоростной
истребитель. Звено Лавринёнкова воевало на недавно полученных полком по
ленд-лизу "аэрокобрах": это говорит о мастерстве лётчиков, поскольку
"выжать" заложенный потенциал в столь сложную в управлении машину могли
немногие.
Настигнутая над Миусом "рама" применила против преследователей коронный
приём: уход по нисходящей спирали с малым радиусом. На одном из виражей
"аэрокобра" Лавринёнкова и вражеский разведчик столкнулись, пришлось
воспользоваться парашютом. Ветер в тот день дул в сторону врага...
Бежать из плена Лавринёнкову помогло то, что в гитлеровской Германии каждый
вид вооружённых сил имел собственную систему содержания военнопленных.
Захваченных в плен лётчиков по причине малочисленности данной категории
Люфтваффе, как правило, этапировало рейсовым транспортом общего
пользования, чаще всего — в одном вагоне с направляющимися в отпуск
немецкими солдатами. Чем занимается такая публика — хорошо описано в
знаменитом романе Ремарка "Время жить и время умирать": уже на подъезде
к Киеву едущие на побывку находились в сильном подпитии.
Воспользовавшись этим, Лавринёнков вместе с другим пленным лётчиком
Виктором Карюкиным выпрыгнули из вагона на ходу. Местное население
помогло им добраться к партизанам.
Гитлеровцы не могли простить бежавшим из плена ни собственной
оплошности, ни столь дерзкого их поступка. Но если беглеца невозможно
поймать, то его можно оклеветать: нацисты начали распространять по
окрестным сёлам ориентировки на двух бандитов, якобы выдающих себя за
лётчиков. Из-за этого в партизанском отряде Лавринёнкову и Карюкину
пришлось пройти проверку прежде, чем стать его бойцами.
Виктор Карюкин погиб в бою. Владимир Лавринёнков той же осенью
воссоединился с Красной Армией и вернулся в родной полк, стоявший к тому
времени на подступах к Крыму. Встретивший его командир полка протянул
вернувшемуся ту самую гимнастёрку с наградами, которая осталась в
казарме перед вылетом. Это было нарушением устава, но вера в возвращение
боевого товарища оказалась сильнее.
Спустя полгода уже дважды Герой Советского Союза Владимир Лавринёнков
сменил в должности погибшего в бою командира полка. После войны
продолжил службу на ответственных должностях в противовоздушной обороне.
Ил-2 против "мессершмитта"
Вернёмся на авиабазу "Энгельс". Среди окончивших располагавшуюся там
лётную школу был человек, которому дважды довелось стать асом. В годы
Великой Отечественной войны — штурмовой авиации, после —
военно-транспортной. И надо отметить, что в мирное время приходилось
сталкиваться с не меньшим количеством опасностей, чем на фронте. Это
дважды Герой Советского Союза Муса Гареев.
Его боевое крещение состоялось под Сталинградом. К началу летнего
наступления на Миус-фронте 76-й гвардейский штурмовой авиационный полк,
в котором служил младший лейтенант Гареев, был расквартирован возле
узловой станции Должанская (ныне — в черте г. Свердловск, ЛНР). Отметим,
что практически все аэродромы в дни боёв на Миусе были сосредоточены в
нескольких десятках километров от линии фронта на границе нынешних
Луганской Народной Республики и Ростовской области.
Первое, чему пришлось учиться в небе над Донецким кряжем — это ведение
воздушного боя: гитлеровцы перебросили сюда множество истребителей.
Приходилось вырабатывать новые тактические приёмы, и вскоре
"мессершмитты" зачастую не решались вступать в бой с группой Ил-2, зато
предпочитали охотиться за отставшими от своих машинами.
В такой ситуации оказался Муса Гареев в предпоследний день июля 1943
года, когда был вынужден после групповой бомбардировки в верховьях Миуса
остаться на месте боя для фотофиксации результатов. Здесь и настиг его
"мессершмитт". И тогда Гареев принял совершенно парадоксальное для
данной ситуации решения: пойти в лобовую атаку. Немецкий пилот удивился
тому, насколько лёгкая добыча сама идёт к нему в руки, и в итоге проиграл
схватку.
О случившемся Гареев не доложил начальству, однако о факте уничтожения
"мессершмитта" сообщили пехотинцы, рядом с чьими позициями упал
неприятельский самолёт.
Спустя пару дней в районе Саур-могилы Ил-2 Мусы Гареева был сбит. Пилоту
удалось увести горящую машину за Миус, но при посадке на брюхо он и его
бортстрелок, будущий полный кавалер Ордена Славы Александр Кирьянов,
получили сильные травмы. Но несмотря на это экипаж продолжил летать, и
вскоре послужной список Гареева пополнился новой воздушной победой над
истребителем.
Её история оказалась куда более драматичной. В руки противника однажды
попал совершивший аварийную посадку Як-1. Немцы восстановили самолёт и
решили действовать хитростью: принимаемый за своего трофейный
истребитель пристраивается к группе советских штурмовиков или
бомбардировщиков и исподтишка расстреливает несколько машин, после чего
незаметно уходит.
Так однажды и случилось: в одном из боёв истребитель сопровождения
атаковал ведущего штурмовой группы. Увидев это, Гареев нажал на гашетку,
но по прибытию на базу фотофиксация показала, что огонь оказался
дружественным. Началось расследование, показавшее, что ни у одного
авиаполка на данном участке фронта в тот день потерь данного типа
самолётов не было. Выезд на место падения сбитого Гареевым самолёта
показал, что это и был тот самый затрофеенный противником борт.
В послевоенные годы лётчику надо было проявить большую настойчивость,
чтобы остаться на любимой работе. Гарееву пришлось переквалифицироваться
на пилота транспортной авиации. Значительная часть выполняемых им
заданий была строго засекреченной. Например, неоднократно надо было
снабжать арктические дрейфующие станции, в чью программу входило много
оборонных исследований. Чуть позже Гареев доставлял на Байконур первых
космонавтов: достоверно известно как минимум об одном таком литерном
рейсе.
Были и заграничные рейсы. В Индонезию и Афганистан экипаж Гареева
доставлял военных специалистов, в Конго — грузы для повстанцев. Осенью
1956 года в Венгрии пришлось участвовать в обеспечении логистики при
подавлении вспыхнувшего антиправительственного мятежа, много важных
заданий было и в дни Берлинского кризиса 1961 года.
При этом даже в дружественно настроенных к СССР странах пилотам таких
спецрейсов постоянно приходилось быть начеку. Например, однажды при
дозаправке советского борта в баки, из которых топливо отбирается в
последнюю очередь, вместо керосина залили воду. Расчёт был на то, что
самолёт просто тихо исчезнет с радаров над морем, и только чистая
случайность уберегла от катастрофы.
В похожей ситуации однажды оказался и Муса Гареев: топливную систему его
самолёта злоумышленники засорили обрезками ткани, отказали все четыре
двигателя. Так как "чёрные ящики" тогда ещё не использовались, то в
случае крушения возникший пожар уничтожил бы улики, но командир экипажа
сумел перевести тяжело гружённый самолёт в режим планирования,
развернуть и посадить его.
Позднее в качестве эксперта Гареев участвовал в расследовании
авиакатастрофы под Белградом, в которой погибла советская делегация во
главе с маршалом Бирюзовым, тоже участвовавшим в освобождении Донбасса
от гитлеровцев. По мнению Гареева, ошибка югославского диспетчера вряд ли
была случайной: трагедия произошла всего через неделю после смещения
Хрущёва, начавшего нормализацию отношений с Тито.
Дали знать о себе и полученные на фронте раны: инсульт настиг Гареева в
сорок два года прямо в пилотской кабине за штурвалом. Врачам удалось
вытащить героя в буквальном смысле с того света: после выздоровления он
посвятил остаток жизни подготовке будущих защитников Отечества в родной
Башкирии.
Вместо послесловия
В 22-й Донбасской тяжелобомбардировочной авиадивизии есть традиция
называть самолёты Ту-160 в честь людей, а Ту-95 — в честь городов.
Когда работа нашей журналистской группы подходила к завершению, я
высказал пожелание, чтобы однажды два борта получили свои названия в
честь городов Шахты и Горловка.
В первом из них дивизия базировалась в дни сражения на Миус-фронте,
нанося удары в тыл противника. Во втором ей вручили гвардейское знамя.
В уже ставшем далёком 2008 году такое пожелание могло быть разве что
смелой мечтой. Надеюсь, что в наши дни оно станет реальностью. Источник материала и фото: "DNR news"